
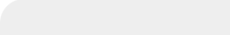
Смотрите авторскую программу Дмитрия Гордона30 октября-5 ноябряЦентральный каналАнатолий КОЧЕРГА: 4 ноября (I часть) и 5 ноября (II часть) в 16.40
|


| 

| 

5 апреля 2008. Первый национальный канал
Элина БЫСТРИЦКАЯ: «Господи, я столько беды видела, столько смертей, но страшнее, чем разорванные, окровавленные шинели и гимнастерки, были вши, ползущие прямо по полу»
4 апреля народной артистке СССР, выдающейся киевлянке исполняется 80 лет
Часть I

Фото Александра ЛАЗАРЕНКО |
Народную артистку СССР Элину Быстрицкую никогда не именовали секс-символом: во-первых, полвека назад, когда она сыграла свои первые роли, такого понятия не существовало, а во-вторых, любой, кто позволил бы себе на ее счет фривольные мысли, рисковал немедля схлопотать по физиономии. Элину Авраамовну называли целомудренно и почтительно: одна из красивейших советских киноактрис, самая женственная, кумир миллионов...
Царственная осанка, летящая походка, утонченные черты лица и нежные руки... Перед ней блекли фальшивые, беззаботно-искусственные голливудские звезды, хотя в отличие от них у Быстрицкой не только домработницы не было — даже пылесоса и стиральной машины. В театр отечественная дива добиралась городским транспортом, прическу и грим делала своими руками, а на наряды что-то выкраивала из 250-рублевой зарплаты... И это при тех безумных дефицитах и нехватке буквально всего!
Фотографий и открыток, которые Элина Авраамовна подписала восхищенным поклонникам, не счесть, ну а сама она попросила автограф лишь раз — у «железной леди» Маргарет Тэтчер, будучи у той в гостях. Это фото с дарственной надписью ей очень дорого, поскольку превыше всего актриса ценит в женщинах силу воли, целеустремленность и независимый характер.
Не знаю, как там насчет «коня на скаку остановит», но что и сама Быстрицкая из когорты несгибаемых — это точно... Она и на войне не пряталась — только ложилась на землю во время бомбежек и артобстрелов. Эта обворожительная женщина прекрасно стреляет, умеет грести на байдарке и до сих пор уверенной рукой отправляет шар точно в лузу (в чем на недавнем турнире по бильярду убедился, позорно ей проиграв, господин Жириновский)...
Для нее время давным-давно разделилось: то, что проводит в кадре или на сцене, — цветное, остальное — черно-белое. Горько сознавать, что актриса, затмившая остальных талантом и красотой, четверть века вообще не снималась в кино и практически столько же не имела премьер в театре — только вводы взамен выбывших и заболевших... Что поделаешь, она не считала возможным получать работу через постель — поговаривали даже, что Быстрицкую внесли в некий черный список актрис-«отказниц», не идущих навстречу желаниям режиссеров. «Если бы не моя внешность, — годы спустя призналась Элина Авраамовна, — я бы гораздо больше сделала и в кино, и в театре».
Вопреки расхожему мнению ее муж не был ни генералом, ни родственником Хрущева — Николай Иванович работал в отделе переводов Министерства внешней торговли, а поскольку специалистом слыл квалифицированным, Анастас Микоян часто брал его с собой за рубеж переводчиком. Предложение руки и сердца Быстрицкая получила на четвертый день знакомства: она была свободна, он разведен — препятствий для брака никаких. Даже жилье у пары имелось: у невесты — 13-метровая комната в коммуналке, выделенная ей после триумфа в фильме «Тихий Дон», а у жениха и того меньше — 10-метровая крохотная нора... Элина мечтала о личном счастье, надеялась родить вопреки медицинским прогнозам ребенка, но... «Если чудеса случаются, то не со мной», — написала она в своей книге «Встреча под звездой надежды».
«Со временем, — разоткровенничалась актриса, — Николая Ивановича перестало интересовать все, кроме того, что он муж «той самой Быстрицкой». Его не волновали ни заботы мои, ни болячки, ни хлопоты — у него были свои интересы, и сводились они к встречам с «дамочками». Господи, кажется, я сбиваюсь на пошлость, но что делать, если это — правда. Впрочем, я и сейчас не хочу вспоминать о Николае Ивановиче плохо, потому что, говоря о нем так, сама становлюсь хуже, а это недостойно». После 27 лет супружеской жизни они расстались...
Суперзвезда советского кино и сегодня поразительно хороша собой, обворожительна, притягательна, но рядом с ней только одна живая душа — крошечный пекинес...
Не родись красивой?
«НА ВОЙНЕ Я ВСЕ ВРЕМЯ МЕЧТАЛА УВИДЕТЬ ЗАСНЕЖЕННЫЙ КРЕЩАТИК И НАД НИМ ЧЕРНОЕ НЕБО С БОЛЬШИМИ-БОЛЬШИМИ ЗВЕЗДАМИ»
— Здравствуйте, Элина Авраамовна, а вы потрясающе выглядите. Кстати, часто вам говорили, что вы очень красивая?

Детские воспоминания о киевской мирной жизни: «Меня, маленькую, папа с мамой ведут за руки, а я смотрю в небо». Элечка Быстрицкая, начало 30-х, Киев |
— (Улыбается). Да, в общем-то, говорили... Первый раз я услышала это в 41-м году — уже был развернут госпиталь, я шла мимо и услышала, как один раненый солдатик другому сказал: «Какая хорошенькая девушка!». Я даже оглянулась, чтобы посмотреть, о ком это он, но вокруг никого не было. Возвратившись домой, долго разглядывала себя в зеркало и решила, что они просто ничего не понимают: какой я была, такой и осталась. С тех пор и повелось...
— Что чаще всего вспоминается вам из киевских детства и юности?
— Войну я прошла в действующей армии, и все это время мечтала снова увидеть заснеженный Крещатик и над ним черное небо с большими-большими звездами. Это было воспоминание о мирной жизни: меня, маленькую, папа с мамой ведут за руки, а вокруг сугробы, и я смотрю в небо. (Грустно). Когда тебя крепко держат родители, можно запрокинуть голову и глядеть вверх... Потом, вернувшись после войны в Киев, такого неба уже никогда не видела. Думаю, это тот случай, когда деревья были большими.
— Киев сегодняшний — это по-прежнему ваш город или вы больше не чувствуете его своим?
— Как вам сказать, он очень красивый, и, безусловно, мне это приятно. Я вот проехала по местам, где когда-то бывала, и вижу: многое изменилось, причем в лучшую сторону. Киев чистый, уютный, ухоженный, мне нравится, что сохранен центр, что здания со вкусом достроены или отреставрированы.
— Есть уголки, где вы знаете каждый камень, где у вас было, может, что-то особенно трогательное — первое свидание, поцелуй?
— Девочкой меня водили гулять в парк Шевченко — он назывался тогда Николаевский. Недавно хотела туда зайти, но увидела на газонах белые шатры с сердечками... Сообразив, что это политика, повернула обратно.
— Сердешные люди собрались...
— (Смеется). Я туда не пошла, но помню каштаны, которые там собирала, помню еще дом Морозова, где жила моя тетушка. Он был тогда ярко-розовый, и хотя сейчас бледноватый какой-то, я обратила внимание, что в Киеве много розовых зданий — меня это греет.
— У войны, говорят, не женское лицо, тем более не детское, а вы же попали на фронт, в госпиталь, 13-летней девчонкой. Что вас там потрясло?
— Господи, я столько беды видела, столько смертей от ран, я так часто слышала взрывы бомб и снарядов, что это стало обыденным делом. Вспоминать о таком тягостно...
— Люди прямо у вас на руках умирали?
— Слава Богу, у меня на руках — нет, но однажды в Одессе... (Волнуясь). Понимаете, я везла в машине четверых раненых, а когда прибыли в госпиталь, они все оказались убиты — в дороге по кузову полоснула пулеметная очередь. Я не понимала, как такое могло случиться: мне и водителю — ничего, а их смерть достала... Закончилось все нервным срывом.
Еще одно потрясение... Госпиталь наш был передвижной, и на одной из станций, по-моему, в Донбассе, я увидела развороченный пульмановский вагон, в котором была фронтовая почта. До сих пор перед глазами черная, обугленная степь и по ней летят солдатские письма-треугольнички — ветер их порциями выдувает и несет куда-то за горизонт. Меня это ошеломило... В то время отец был в окружении, мы с мамой не получали от него сведений и, естественно, каждый день ждали весточку. Эти треугольники так и не дошли до адресатов, а ведь для многих тогда важнее их ничего не было.
— Простите за натурализм... Вы, юная девушка, видели развороченные тела, вываливающиеся внутренности, безруких и безногих людей?
— На все это я насмотрелась в операционной, потому что, хотя и числилась санитаркой, работала лаборанткой. Хирурги меня звали, когда нужно было сделать анализ крови, определить ее группу, так вот, там стояли тазы, в которых лежали ампутированные конечности.
В приемном покое солдаты лежали в ужасной грязи — их же доставляли прямо с передовой, — и страшнее, чем разорванные, окровавленные шинели и гимнастерки, чем облепленные глиной сапоги, были вши, ползущие прямо по полу. Об этом сегодня рассказывать нехорошо, но дело не в том ведь, что люди неделями, а то и месяцами не мылись, — баню топили при каждом удобном случае, — но, вероятно, горе, которое висело вокруг, как-то притягивало эту гадость, провоцировало вспышку педикулеза.
— Многие ваши ровесницы спокойно уезжали с родителями, бабушками и дедушками в тыл, в эвакуацию... У вас никогда не возникал вопрос: «А почему, собственно, я на фронте?»?
— Нет, потому что сама же туда рвалась — это был абсолютно искренний порыв, и папа с мамой не протестовали. На первых порах царила неразбериха: госпиталь открывали и закрывали, разворачивали и сворачивали... Я пролезла туда через дыру в заборе и явилась к комиссару по фамилии Котляр. Знала его, как и всю обслуживающую команду, потому что мой отец был начальником лаборатории. Я сказала этому майору, что хочу помогать армии. Он почему-то опустил глаза и, не поднимая их, спросил: «А что ты можешь?». — «Для фронта, — ответила, — все!». — «Хорошо, — произнес он, — иди читай раненым книги и письма, помогай написать тем, кто сам не может».
Сначала я была на подхвате, а потом прослушала организованные при госпитале курсы медсестер и оказалась в лаборатории. Это дело было мне и раньше знакомо — папа очень хотел, чтобы я стала медичкой, и часто с собой брал. Мне были там интересны не только мышки и свинки, но и лабораторная работа — многое я уже умела и понимала...
В 42-м году отец убыл под Сталинград — мы остались с мамой и маленькой сестричкой, которую прятали, чтобы не отдавать в детдом. Дежурили по очереди — как-то устраивались. Все знали, что с нами ребенок, но закрывали на это нарушение глаза, да и квартирные хозяйки всячески старались малышку согреть, уберечь. Помню, одной из этих сердобольных женщин сестренка сказала: «Мне нравится лежать в постельке — пусть лучше убьет, когда спишь». Представляете (со слезами), в четыре или пять лет! Ужас!
«РЕКТОРУ ТЕАТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ПАПА СКАЗАЛ: «ОБЪЯСНИТЕ МОЕЙ ДОЧЕРИ, ЧТО ЕЙ У ВАС ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО»
— После войны вы, я слышал, хотели врачом стать, а почему передумали?

«Я всегда была самодостаточной и привыкла рассчитывать только на свои силы. В войну ходила с заточенной металлической расческой в кармане — на всякий случай» |
— В семье решили, что пойду по медицинской части, — какие могли быть возражения? Врач — профессия достойная, уважаемая.
— Тем более такая практика...
— Вот именно. В ноябре 44-го года нас отпустили с фронта, и я приехала в Киев — надо было продолжать учебу.
— Какое впечатление на вас произвел оставленный немцами город?
— Черный, разбитый, страшный... Изуродованный Крещатик... В наш дом (он стоял во дворе первого номера по улице Льва Толстого) попала бомба. Следы от его крыши на стене соседнего третьего номера и спиленные груши — вот все, что от него осталось. Деваться было некуда, и мы отправились в Нежин, откуда начиналась наша военная жизнь, — за пару лет до Великой Отечественной папу перевели туда служить (а бывали мы у него наездами, в основном на каникулах, поскольку училась я в киевской школе).
В Нежине меня зачислили в медицинский техникум на второй семестр: после фронта я имела право поступать даже сразу на второй курс — без экзаменов. Училась на акушера, причем на пятерки, дело шло уже к третьему курсу, и вот однажды во время практических занятий по хирургии пришел больной с воспалением надкостницы. Преподаватель решил вскрыть гнойник через щеку, но когда пациенту дали рауш-наркоз, — был в ту пору такой! — тот захрипел и... умер.
— На глазах у студентов?
— Да. Все забегали, нас сразу выдворили из операционной, а я подумала: «Как же так? Можно еще понять, что люди умирают от ран, но здесь-то...».
— Вам было горько сознавать бессилие медицины?
— Горько — не то слово. Этого человека никто не сумел спасти: все было кончено буквально за две-три минуты — даже разрезать ничего не успели. Мне объяснили, что, возможно, у него была какая-то аллергия, — да мало ли что могло дать такую реакцию, но я окончательно поняла, как это ответственно — быть медиком, и насколько здесь от тебя ничего не зависит...
Потом, поскольку специализация была акушерско-фельдшерская, я принимала роды. Учебная норма — 15 дежурств, мне оставалась последняя ночь... В тот раз на моем попечении были четыре женщины, и так случилось, что все роды оказались патологическими — четыре младенца появились на свет не такими, как следует. Помню, пришла я домой и мама сказала: «Доченька, а у тебя седые волосы появились...». Для меня это было страшным ударом: я убедилась, что медиком, настоящим профессионалом быть не могу — для этого нужен не мой характер.
— Вместе с тем, насколько я знаю, родители были против вашего поступления в театральный...
— Конечно же, против: папа говорил, что актриса — это вообще не профессия.
— Представляю, что он еще говорил...
— Первый раз отец приехал к нам в отпуск в 47-м и сразу сказал: «Хочу посмотреть, что это за институт». В то время он был капитаном или майором — точно не помню, — и когда надевал китель, я думала: «Ну, теперь все в порядке». Военный...
— Он был красивым мужчиной?
— Интересным — нравился всем. Короче, пришли мы к Семену Михайловичу Ткаченко — ректору Института Карпенко-Карого. Блестящий, улыбчивый человек, он радостно с отцом поздоровался. «Чем могу быть полезен?» — спросил, а папа в ответ: «Объясните, пожалуйста, моей дочери, что ей у вас делать нечего». Ректор такого поворота не ожидал — обычно просили посодействовать, а тут... Увидев его удивленное лицо, я через секунду вылетела из кабинета, а отцу сказала, что вообще учиться не буду. Он кивнул: «Хорошо, поедем в Германию» — и забрал нас. В то время в Нежине было очень голодно, я даже видела людей, которые умирали от истощения прямо на улице.
С папой мы отправились в Дрезден, где он тогда служил, — так я впервые попала за рубеж. Заграница показалась мне очень странной. Как-то с группой сотрудников госпиталя на грузовой машине мы поехали в Дрезденскую галерею, а когда, собираясь в обратный путь, садились в кузов, кто-то обратил внимание, что вокруг деревья фруктовые и на них яблоки. «А ну тряханем, — предложил...
— ...вражеские яблони»...
— Тряханули... Яблоки посыпались в машину и на дорогу, а метрах в восьми от нас играли детишки — причесанные, славненькие. Они, бедные, остановились и с ужасом смотрели, как дикари хозяйничают в их родном городе, — это произвело на меня неизгладимое впечатление.
«ЕСЛИ ЗАВТРА Я БУДУ ОТЧИСЛЕНА, ПОСЛЕЗАВТРА ИЩИТЕ МЕНЯ В ДНЕПРЕ», — ЗАЯВИЛА Я ПРЕПОДАВАТЕЛЮ»
— Вы тем не менее все равно вопреки воле отца пошли в театральный...

«В семье решили, что я пойду по медицинской части: папа говорил, что актриса — это вообще не профессия» |
— Долго я не решалась папин запрет нарушить... Через год поступила — надо же было хоть чему-то учиться! — в Нежинский педагогический институт, но еще до этого, мечтая о театральном, записалась в балетный класс при местной музыкальной школе. Когда явилась к преподававшей там Екатерине Владимировне Медведевой (в прошлом солистке балета), она спросила: «Сколько вам лет?». — «17», — ответила я и услышала: «Поздно». Все-таки уговорила. Сказала, что танцовщицей быть не собираюсь, но мечтаю о сцене, и если стану актрисой, мне понадобится хореография.
Занималась по четыре-шесть часов в день — все свободное от учебы в техникуме и потом в вузе время. Мало того, руководила в институте танцевальным кружком, и когда мы хорошо выступили на олимпиаде, меня наградили — дали путевку в Дом отдыха работников искусств. Не помню уже, где он находился, да и какая разница? Главное, там собирались актеры и музыканты, и среди них Наталья Александровна Гебдовская — прима Театра имени Ивана Франко. После какого-то вечера — кажется, что-то я там изображала, — она спросила: «Девушка, где вы учитесь?». — «В педагогическом». — «Жаль, — вздохнула Гебдовская, — надо бы вам в театральный». Все!
— Вы пропали...
— Да, и решила: если уж настоящая актриса в этом уверена, так и должно быть. Сестричку отвезла к папе с мамой (они в это время были уже в Вильнюсе), вернулась и поступила в киевский театральный...
— ...с последнего курса которого вас едва не исключили за хулиганство...
— Это произошло 22 января 53-го года — перед траурным вечером, посвященным годовщине смерти вождя. Я стояла возле аудитории, прикрыв глаза, и повторяла на память «Казку про Ленiна» Натальи Забилы — 25 минут текста. На правой руке у меня висело пальто, в левой была тетрадка, и вдруг раздался страшный свист в ухо. Придя в себя, я увидела, что студент-второкурсник уже тянется со своей пищалкой к моему второму уху, чтобы еще и туда свистнуть, и при этом хохочет...
— Ну и шуточки!

На вузовском комсомольском собрании, состоявшемся после смерти Сталина, Быстрицкую обвинили в сионизме |
— Девушкой между тем я была спортивной и сильной: одна могла поднять раненного, спокойно носила домой воду из колонки — по два ведра за раз... Короче говоря, развернулась и так его огрела, что он отлетел метров на пять. В это время открылась дверь аудитории, оттуда выпорхнул «отстрелявшийся», и я переступила порог, а когда через полчаса, прочитав Полине Мусиевне Нятко текст, с которым вечером мне предстояло выступать, вышла, весь институт уже гудел: такая-сякая, это хулиганство!
— Может, у вас это не первый был инцидент с рукоприкладством?
— В том-то и дело, что первый, хотя в детстве случалось всякое: росла вместе с братом, мы дрались и между собой, и с соседскими ребятами... В войну, кстати, ходила с заточенной металлической расческой в кармане — на всякий случай, зато спокойно шла по темному страшному городу Сталино (теперь это Донецк), куда мы попали на третий день после передовых частей.
— Неужели рука бы не дрогнула, если что?
— Если бы пришлось защищаться — нет. Понимаете, я была самодостаточной, привыкла рассчитывать исключительно на свои силы и тут тоже за себя постояла, но вечером мой педагог сказал: «Подавайте заявление о переводе в Харьков, потому что завтра будет подписан приказ о вашем отчислении». Ответила я не раздумывая и совершенно искренне: «Если завтра это случится, послезавтра ищите меня в Днепре». Повернулась и вышла...
— Вы блефовали или действительно готовы были утопиться?
— Слово я бы сдержала — клянусь! Во-первых, никогда не вру и терпеть этого не могу в других, а во-вторых, какой у меня был выход? Так трудно пробиваться в театральный, ослушаться папу с мамой и все вдруг потерять?.. Мне ведь было непросто учиться. Родители за то, что пошла им наперекор, денег не присылали, поэтому параллельно я еще и работала: ассистенткой у Эмиля Кио, была на подхвате в массовках... Помню, покупала в гастрономе котлетки, чего-то там в них добавляла, какой-то делала соус — шла на всякие ухищрения, чтобы это было съедобно. Тоненькая была...
— И что, вы представляли себе, каким способом пойдете на дно?
— К счастью, до этого не дошло, а вообще-то плавать я толком не умела. Научилась лишь на втором курсе — держалась на воде, а как, и сама не знала.
— Что было после того, как вы пригрозили педагогам самоубийством?

Элина Авраамовна — женщина из породы несгибаемых. Даже на войне не пряталась — просто ложилась на землю во время бомбежек. Поэтому, очевидно, и в 80 лет у нее великолепная осанка |
— Отчитала в концерте свой номер, а потом уехала на каникулы к родителям. Вернулась, по-моему, в апреле. Нет, в марте — комсомольское собрание, на котором разбирали мое персональное дело, состоялось аккурат после смерти Сталина. На нем меня стали обвинять в... сионизме, кто-то сказал, что в университете уже открыли сионистскую организацию и мы, дескать, тоже должны быть бдительными... Мне было странно слышать такие слова от однокурсников...
— «И это те люди, — думали наверняка вы, — с которыми я дружила?»...
— С которыми общалась — так вернее. Я заявила им: «Как вы можете говорить такое, когда я вместе с вами над гробом Сталина стояла?». Это имя для меня было свято!
— Вы что же, в Москву ездили?
— Нет, дежурила возле бюста Сталина и наблюдала из окна нашего института, как киевляне слушали радиотрансляцию из столицы. Даже сейчас, только закрою глаза, вижу Крещатик, запруженный людьми, и руки, вздымавшиеся над огромной толпой... Вот такой у меня был аргумент!..
— То есть сионисткой вы не были?
— Знаете, нет, но отыскался другой грех. Был у нас студент Ваня Марушко — весь в прыщах, неряшливый, какой-то немытый, и мне припомнили, что я в паре с ним танцевать отказалась. «Она заявила, что от него пахнет деревней, а наша деревня, товарищи, пахнет хлебом!». Это было вранье — я такого сказать не могла, и от него не деревней, а потом разило... Ну простите, пожалуйста, я тоже бедно жила — как и все, но при этом не забывала мыться...
С собрания я отправилась восвояси, а активисты до трех ночи решали, что же со мной делать. Постановили исключить из комсомола и просить дирекцию отчислить из института. Придя домой, я увидела в подъезде нашего комсорга: он ждал меня, чтобы сказать, что не виноват.
— Видите, какое-то представление о чести у людей все-таки было...
— Я тогда это так не расценила. Вообще, была настолько оскорблена устроенным мне судилищем, что в ту ночь решила: «Уеду!», правда, из института меня все же не исключили. Педагоги сказали: «Нехай вирiшує комсомолiя!», но в райкоме комсомола тоже было очень забавно — сегодня я уже могу над этим смеяться... «Ваш комсомольский билет!» — говорят мне. Я достаю его и показываю: «Пожалуйста, можете посмотреть, но издали. В руки не дам — я его получила на фронте».
— И не отдали?
— Нет.
— И вас не исключили?
— Не смогли. Влепили строгий выговор, который через два месяца сняли, и институт я окончила с отличием.
«ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР ПОМАНИЛ МЕНЯ ПАЛЬЧИКОМ: «СЬОГОДНI О СЬОМIЙ. РЕСТОРАН «СПОРТ»
— Куда же вас после этого распределили?
— В Херсон.
— А вы, наверное, рассчитывали в одном из столичных театров остаться?
— Напротив, хотела из Украины уехать, потому что слишком обиделась, а в Херсон меня тем более никакими коврижками было не заманить, и на то имелись причины... Смотреть молодое пополнение оттуда приехал главный режиссер Павло Морозенко — не знаю, жив сейчас этот деятель или нет. Вел он себя, словно султан в гареме: оценивающе на меня глянул и поманил пальчиком: «Сьогоднi о сьомiй. Ресторан «Спорт». Это было злачное место на площади Толстого, возле бань, где собирались люди определенного сорта (и то, и другое заведение имели дурную славу), и я отрезала: «Не пiду». — «Ну дивись, тобi у мене працювати». Что? Тогда и решила: «Да никогда в жизни!» — и на следующий день пошла в бюро учета и распределения кадров Министерства образования. Там такая милая женщина принимала, и я ей сказала, что в Херсон не поеду. Почему? Она мою историю выслушала и после паузы произнесла: «Вы порочите наши кадры».
— Это вы порочите?
— Да, и тогда я стала думать: как быть? Заставить меня делать то, что я не могу и не хочу, невозможно, а в это время на гастроли в Киев приехал Театр Моссовета.
«В ТЕАТР МОССОВЕТА ПРИШЛО 20 АНОНИМНЫХ ПИСЕМ, ГДЕ МЕНЯ ПОРОЧИЛИ, И ОНИ РЕШИЛИ: «ЗАЧЕМ НАМ ЭТА ГРЯЗЬ?»
— С Завадским?
— Да, с Юрием Александровичем, и каким-то чудом я добилась, что они меня посмотрели, — попросила сокурсницу мне подыграть. «Знаешь, — сказала ей, — смотреть будут меня, а взять вполне могут тебя» (в благодарность за помощь на последние деньги купила подруге чулки). Москвичи в результате таки согласились меня принять и дали запрос, с которым пошла в Комитет по искусству — так он, кажется, тогда назывался...
Как я боялась, что председатель комитета — очень занятой начальник! — меня не примет, но несколько минут он уделить согласился. Я подала заявление с соответствующей просьбой и московский запрос, но бумаги сразу были отодвинуты в сторону: «Ми свої кадри не вiддамо». На этом аудиенция окончилась...
Вышла от него в ужасном состоянии: неужели все мои усилия были напрасны? Москва ждет, а этот чинуша не отпускает, и тут слышу, его секретарь в приемной кому-то говорит: «Через 20 минут он уедет». Вот тут-то и взяла на себя грех — впервые. «А если бы на 20 минут опоздала, — мелькнула мысль, — куда бы пошла? К другому начальнику». И я направилась к заместителю министра.
— С острой расческой?
— Нет, с просьбой. У него замечательная фамилия была — Мазепа... Я сказала ему, что хочу туда, где папа с мамой, что меня берут, что-то еще наплела, и вы знаете, этот человек пожалел меня и разрешил. Счастливая, я отнесла документы в театр и стала готовиться к отъезду.
В это время моя подружка Аллочка Осинская выходила замуж, и я была ее единственной гостьей. Мы посидели на берегу Днепра, взяли по порции мороженого и по бокалу шампанского — такая была свадьба... Короче, там к нам подошли ребята, которые окончили Карпенко-Карого годом-двумя раньше, и давай расспрашивать, какие у меня планы.
— И вы похвастались?
— Ну конечно. Все уже знали, что я еду в Москву, у меня на лице было написано ликование, а они вроде как пожалели меня: «Що ж ти, нещасна, там будеш робити?». — «Ролi грати», — ответила...
Остаток лета я провела у родителей в Вильнюсе, предвкушая начало новой жизни. 1 октября должна была приехать в Москву на сбор труппы, а 10 сентября — за три недели до срока! — все свои документы получила обратно. В сопроводительном письме говорилось, что я не могу быть принята на работу без прописки и не могу быть прописана без работы.
— Ужас!
— Я ничего не понимала. Хотела рвануть в Москву, что-то узнать, но на какие деньги? У меня не было ни гроша. Помыкалась и пошла в Вильнюсский драматический театр. Показала бумаги (кроме письма, разумеется)... Они спросили: «Почему ж вы в столицу не едете?», но я не призналась, сказала: «У меня на то есть причина», — и все! Руководство посмотрело, как я с их актерами репетирую, — там ставили то же, что и в институте, только на русском (а курс я окончила украинский)... Словом, меня зачислили в труппу.
Только через несколько лет, во время съемок «Тихого Дона», я узнала, почему не пришлась ко двору. Спросила моссоветовца Новикова (он играл в фильме Коршунова): «Боря, не знаешь, что там случилось? Почему вы меня не взяли?». (Я ж понимала: что-то не так). Он смутился: «Ты разве не в курсе? У нас весь театр знает». — «Ну что? Расскажи». — «Пришло 20 анонимных писем»...
— Из Киева?
— Да, и в этих посланиях меня порочили определенным образом.
— Каким?
— Якобы я, такая-сякая, хвасталась, что собираюсь войти в определенные отношения с Завадским и так далее... Вот в театре и решили: «Зачем нам эта грязь нужна?».
Вскоре жизнь предоставила мне шанс с Юрием Александровичем объясниться. Это было в 54-м году, когда в Москве проходила декада литовского искусства, — я там читала стихи литовских поэтов на русском языке. На заключительном вечере Завадский оказался напротив — сидел через довольно узкий столик, но мне не хотелось ему об этой истории напоминать. Я была счастлива, потому что сыграла уже Таню в одноименной пьесе и Ольгу в «Годах странствий» Арбузова — всего пять ролей, и на гастролях театра в Ленинграде получила приглашение сниматься у Фридриха Эрмлера (до этого в Киеве участвовала только в массовках).
| 

|

